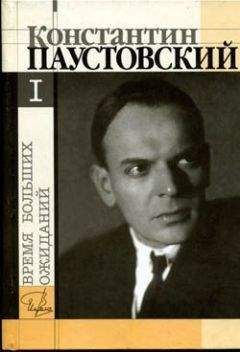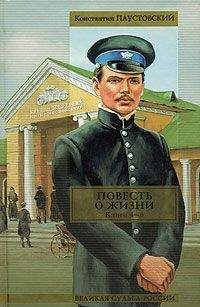Михаил Салтыков-Щедрин - Том четвертый. [Произведения]
Наталья Павловна в целом околотке известна как дама, которой пальца в рот не клади. Она шесть лет уж вдовеет, и вдовеет без малейшей тени подозрения насчет лакея Фомки или кучера Павлушки. Это тем более для нее тяжело, что она женщина еще не старая (всего каких-нибудь сорок лет!) и энергическая и темперамент имеет легко воспламеняющийся. Но так как она перед смертным одром своего друга Федора Михайлыча дала обет в чистоте провожать остальное время жизни и как, сверх того, она больше всего на свете любит простор, то если мысль о новом замужестве и представляется иногда ее воображению, то весьма ненадолго, и единственным последствием ее бывает сдержанный вздох, который по временам (однако все реже и реже) вылетает из ее груди. В манерах Натальи Павловны есть что-то мужественное, не терпящее ни противоречий, ни оправданий. Высокая и худая, она сложена как-то по-мужски, голос имеет резкий и повелительный, поступь твердую и взор светлый и проницательный. Ни одна дворовая девка не укроет от нее своей беременности, и если, паче чаянья, случается такой грех, то виновная скорее спешит с повинною, зная, что это все-таки лучшее средство смягчить гнев строгой госпожи. Приятно видеть, как она сама за всем присматривает, сама всем руководит и сама же творит суд и расправу, распределяя виновным: кому два, кому три тычка. Велемудрых иностранных очков она не носит и, будучи с детства поклонницей патриархального воззрения, с большою основательностью полагает, что ничто так не исправляет ленивых и не поощряет ретивых, как тычок, данный вовремя и с толком.
«Не нужно только зря рукам волю давать, — говорит она, развивая теорию тычков, — а то как не наказывать — наказывать надо!»
При Наталье Павловне живет сын ее Яков Федорыч, который, несмотря на свои двадцать пять лет, продолжает быть известным в околотке под именем Яшеньки.
КАПЛУНЫ
Последнее сказание
Кастраты всё бранили
Меня за песнь мою
И жалобно твердили,
Что грубо я пою.
И нежно все запели;
Их дисканты неслись…
И, как кристаллы, трели
Так тонко в них лились…
Начиная говорить о каплунах, я ощущаю некоторую робость. Каплун птица нешуточная. Будучи досыта накормлен, он тихо курлыкает и чувствует себя совершенно довольным, — качество, как известно, слишком редко встречающееся в наше тревожное и тяжелое время. Отсюда всегдашняя ровность и ясность духа, отсюда — самоуверенная законченность видов и соображений, отсюда — текучесть и плавность речи, отсюда, наконец, — права на всеобщее уважение.
Каплун — консерватор по природе и даже несколько доктринер. Он любит именно тот порядок вещей, который посылает ему в рот катышки, и потому, со стороны доктрины, шагнул дальше самого доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. Каплун удостоверяет, что Панглосс оказал себя в этом случае петухом, а если и каплуном, то каплуном недавним, не позабывшим еще старых, петушиных проказ. Ибо, поучают каплуны, в прекраснейшем из миров не может быть движения к лучшему; в прекраснейшем из миров все так премудро устроено, что не для чего искать лучшего, да и негде его найти; в прекраснейшем из миров изготовляются удивительнейшие катышки и — венец создания — каша из грецких орехов, замысловато перемешанных с творогом.
Благонамеренность каплунов вошла в пословицу. Это и понятно, потому что им неоткуда взять неблагонамеренности. Неблагонамеренность предполагает страстность, а эта последняя горьким насилием судьбы подрезана у каплунов в самом источнике… Поэтому каплуны слывут самыми лучшими судьями и самыми безошибочными решителями судеб вселенной.
Несмотря, однако ж, на все эти положительные достоинства, каплуны, при неумеренном употреблении, делаются противными. Благонамеренность и постоянная невозмутимость души производят в них какое-то неприятное ожирение, от которого по временам делается тошно. Посему искусные кулинарные законодатели рекомендуют употреблять каплунов вперемежку с петухами, дабы не было унисона.
Каплуны-люди встречаются во всех слоях, на всех ступенях глуповского общества. Чтобы сделаться каплуном, нужно очень немного. Нужно выбрать идейку с булавочную головку, возлюбить ее, как самого себя, и затем с спокойною совестью мерить этим огромным масштабом все явления, проходящие перед глазами. Устроившись таким образом, каплун складывает лапки и спокойно ожидает, чтобы природа сама собой довершила блистательно начатое дело. Душевные силы невольно устремляются к готовому центру, который, как всесильный и притом брезгливый деспот, берет от них лишь то, что необходимо для его поддержания; затем все остальное отбрасывается и постепенно подрезывается и подсыхает. После того каплун жиреет и делается отличным судьей и непогрешимым решителем судеб вселенной.
По нужде можно, однако ж, обойтись и без личного участия в выборе идейки, но принять таковую со стороны в виде дружеского насилия или в виде дружеского найма. Это штука самая выгодная, во-первых, потому, что она освобождает каплуна от обязанности изобретать что-либо свое собственное, и, во-вторых, потому, что дает ему возможность под предлогом угнетения его самостоятельности требовать известного за сие вознаграждения. Отдавши внаймы свои посильные дарования, каплун обязывается в течение условленного периода времени с таким же озлоблением курлыкать по поводу чужой идеи и в защиту чужого интереса, как бы это были его собственные идея и интерес. Каплуны этого рода требуют кормления нарочитого, ибо чем сильнее их кормят, тем ненасытнее делаются их утробы и тем голоднее становится их курлыкание. Эти каплуны в публике носят наименование бесстыжих, так как нанимаются преимущественно к тому, кто предлагает больше катышков.
В те трудные эпохи, когда жизненные интересы, еще не сделавшись интересами действительными, выказывают, однако ж, поползновение обмирщиться и стать общим достоянием, каплунство является во всем своем торжестве и олимпийском величии. В то время, когда целое общество трепещет и движется под гнетом какого-то одуряющего обмана чувств и мысли; в то время, когда человек, не видя перед собой непосредственного практического дела, жадно привязывается к каждой насущной истине, лишь бы она не носила на себе слишком явных признаков безобразия и лжи, каплунье воинство уже все разрешило, все распределило заранее, и только курлыкает да улыбается той горячке, которой предаются необузданные петухи.
— А как вы думаете, — говорит Иван Петрович Петру Иванычу, указывая на петуха, разбежавшегося что есть мочи на стену, — а как вы думаете, разобьет он себе голову?
— Разобьет-с, — отвечает Петр Иваныч, злорадно хихикая, ибо по естественному влечению своей природы обязывается ненавидеть петухов всеми силами своего крошечного сердца.
— А как вы думаете, если б он чуточку взял вправо… ведь уцелела бы у него голова?
— Уцелела бы, потому что правее брешь сделана.
— Так-то-с, Петр Иваныч!
— Точно так-с, Иван Петрович!
В этом «чуточку вправо», «чуточку влево» заключается вся житейская, административная и политическая мудрость каплунов. Покуда другие борются и изнемогают, покуда другие идут напролом и стремглав падают в пропасти, каплуны сидят себе с весками в руках и то в одну чашечку подсыплют, то в другую подложут… «С одной стороны, оно, конечно, так (подсыпь же, подсыпь на копейку!), но, с другой стороны, нельзя и того не принять в соображение (да что ж ты зеваешь! подложи на грош в другую-то чашку!)…» Вот речи, без которых ни один каплун обойтись не может. Поэтому они целую жизнь всё соображают: и то соображают, и другое соображают, и с одной стороны смотрят, и с другой стороны смотрят, и никак-таки не могут добиться, чтобы стрелка стояла прямо.
Из этого видно, что обязанности каплунов, с одной стороны, тяжелы и беспокойны, с другой стороны, — легки и спокойны. Они тяжелы в том смысле, что можно от заботы одной пропасть, можно зрение потерять, наблюдая за колебанием чашечек; они легки в том смысле, что подобные наблюдения составляют занятие чисто механическое, что можно и наблюдать и в то же время о пирогах думать. Это все равно как занятие в департаментах. Пишет чиновник к какому-нибудь Петру Иванычу и от Петра Иваныча получает письма; грубит Петру Иванычу, соглашается с Петром Иванычем, говорит ему колкости и уверяет его в истинном почтении и преданности, — одним словом, двадцать лет каждый божий день беседует с Петром Иванычем… и не знает, что это за Петр Иваныч, и не только в глаза его не видал, но даже не ведает, чем он занимается и какую он представляет собой спицу в административной колеснице. Зато он получает полную свободу мечтать, покуда перо его ходит по бумаге; зато он может без помехи думать и о вчерашнем танцклассе и о танцклассах, предстоящих ему сегодня и завтра; он может улыбаться и разговаривать с самим собою; он может мысленно входить в недоступные ему гостиные, нашептывать дамам любезности, воспламенять воображения, покорять сердца…